24 Апреля 11Елена
Паломнические записки о путешествии в Кожеозерский монастырь
Дорога
«Степлело» - заметил Вовик, - услышав новое слово, я открыла дневник. Вовик - это светло-рыжий, блестяще-обветренный мужик, лет сорока, по-северному загорелый, в красной рубахе и камуфляжных штанах. «Вовиком» он представился после того, как махнул 100 грамм чистого аптечного спирта, припасенного нами с Москвы, ведь говорили: «это дело - здесь первая валюта!» По его ходатайству мы плывем на катере-лесосплаве по Онеге, ребята ради знакомства уже восхищаются, но он говорит, что еще рано.
Действительно, река тихая с низкими берегами, в ширину метров 200 - ничего особенного, зато вода темно рыжая вглубь и солнечно-синяя вдаль. Над нами шапка светло-светлой голубизны, с облачками-рыбками, махонькими словно килечки - Вовик аппетитно закусывает, - видно я тоже проголодалась. Вообще, о рыбе здесь говорят много. Еще на берегу встретили мы байдарочников. Стыдно им стало, что мы без удочки на Кожу идём, вот и подарили - «на хариуса», лично я, с этой рыбиной ранее не встречалась, потому с улыбкой представила ее особенную харю, со свисающими усами.
Река заворачивает, а на плёсе - стадо коров, мочат ноги и глядят вдаль, и я гляжу. С нашей «тянучки» видны по берегам лесные плоты, которые ждут покупателей, наш кораблик уже тащит такой плот, растянувшийся далеко по реке, потому и ползем мы медленно. А еще он рвет рыбацские сети, и «Сашка» - капитан, молчаливый жилистый мужик, с высохшим лицом, годами за сорок, опасается мести. Только к следующему утру, мы доплыли до Шомокши.
На тепловоз мы опоздали, поэтому были очень недовольны Вовиком. Шомокша - деревня лесорубов, один из основных центров лесозаготовки Онежского района. Мы увидели довольно скучные кирпичные и деревянные постройки потёртые советским временем, кладбище ржавеющих вездеходов и прочей отслужившей свой срок техники. Вокруг валялись срубленные деревья, совсем не такие красивые, как мы привыкли думать о нашем лесном богатстве. Кругом грязь, а на завалинке сидят суровые мужики, скучающие по спирту. Некоторые уже подходили нам, обещали кто дрезину, кто вездеход, но после расплаты.
Вдруг раздался грохот, и мы увидели нечто странное, - лавка на колёсах мчится по одноколейке, дрезина - местный ковёр-самолёт. Оказалось, здесь все так передвигаются, лошади по такой местности не пройдут, а тут специально проложенные рельсы по всем направлениям, даже по улицам посёлка. На дрезине был мальчик в грубой мужичьей одежде, только маленькой. Деловой, с малозапоминающимися северными чертами лица, обветренными румяными щёчками, небольшими голубыми глазами и светлыми вихрами размётанными, короткостриженными. Миша - так его звали, лихо перевернул свою дрезину на нужное нам направление, мы уселись, и это дивное средство передвижения догрохотало с ветерком до Тяпогоры, откуда далеко виден был сине-зелёный северный глобус. Спускаясь, мы обсуждали перемену пейзажа и двух зайцев, которые перебежали нам дорогу, пока мы ехали на дрезине.
Начался 48-километровый путь. Вначале шли мы по песчаной лесовозной дороге, в придорожном кустарнике встречалась земляника, светило солнце, даже слишком ярко, потому панамки-накомарники наши вскоре стали влажными. От непривычно тяжёлых рюкзаков путались ноги, но все только начиналось, и усталость нас только радовала. Через несколько километров мы увидели реку. Это была Сывтуга - речушка-побегушка с мелкими перекатами из ровнехоньких круглых камушков. У неё мы устроили обеденный привал и бросились купаться. Разлеглись на камнях и наслаждались кокетливыми ласками пробегающих холодных струй. По-походному, в кане, сварили первый суп. Похлебали, потянулись и пошли дальше. Дорога была однообразной, то же самое за каждым поворотом, хотя уже потруднее. Разбитая колея была полна водой, но кроссовки еще устраивали. Шедшая впереди Алёнка видела большую птицу, а потом тарахтела об этом весь привал. К вечеру, уже отчаявшись найти приличный ночлег, мы доковыляли до реки Талзанги, обещанной нам Мишей. Под темно-зелеными еловыми лапами устроили привал. В реке временами прыгала рыба, пытавшаяся поглазеть на незнакомых путников. После ужина и любимой «Ой, то не вечер, то не вечер» ловко разложили только купленную палатку. Притёрлись друг к дружке и сразу уснули, перешагнув в какой-то далекий и трудный мир, полный приключений. К утру пошёл мелкий дождь - погода подпортилась. Пришлось спешно спасать вещи, беспечно оставленные накануне снаружи. Впрочем, этим занимался Макс, Юра пошёл разведать дорогу, а Аленка по-прежнему посапывала в палатке, и когда проснулась, уже дымился суп из московских пакетиков, а Макс победоносно разделывал только пойманную рыбешку. Мы долго ждали, надеясь, что погода все же исправиться, но тщетно и отправились дальше, - а было уже после полудня. Почему надо было разведывать дорогу? Да, дело в том, что по рассказу Миши поворот на новую дорогу после Талзанги, чуть заметен в лесу - «просвет» - сказал он, - «Если пройдёте его и дойдёте до моста, возвращайтесь обратно, пока не найдёте». Понятное дело, возвращаться обратно и нахаживать лишние километры с рюкзаками за плечами не очень хотелось. Дело осложнялось и тем, что в нашей карте и указано-то этой просеки не было. Дороги в тех местах меняются почти каждый год, это зависит от вырубок, на болотистой местности старые очень быстро приходят в негодность, поэтому и наносить их не целесообразно. Вот на такую нецесообразную дорогу мы и свернули, на разбитую вездеходом колею. Впрочем, по намокшей колее идти было невозможно, она лишь обозначала путь, так что шли мы по кромке леса, а на мягкую, глубокую перину выходили когда начинался совсем уж бурелом - ноги вязли, мы высоко поднимали их, боясь попрощаться с сапогами, оттого продвигались мы гораздо медленнее. Однако и в лесу были свои радости, - появились зеленые кудряшки черники с манящими сочными бусинками. Но с рюкзаками нагибаться было лень, потянешся за ягодкой, а потом кряхтишь. В таком темпе дошли мы до первого болота, обманчиво приняв место без деревьев за желанную полянку. Полянок здесь вообще не бывает. Еще когда мы ехали с Мишей нам встретилась дрезина издалека возвращавшаяся с невеликой охапкой сена для своей кормилицы, лужки есть только по Онеге, но их мало, а молочко все любят.
К болоту подошли особенно серьезно, Юрка велел снять рюкзаки и волочь за собой, впрочем, такая предосторожность была напрасной, знали бы, что ждет впереди, вообще внимания не обратили. Дальше было все хуже, лес к себе уже не пускал, приходилось идти по «дороге», увязая и дикой тишине, лиственные деревья исчезли, одни лишь иссохшие скрюченные елки молча провожали нас своим тяжёлым взглядом, и иногда скрипели дряхлыми скелетами, но не от любопытства, а чтобы размяться. Ни живности, ни птицы какой нам не встречалось. Но что звери здесь есть сомневаться не приходилось, - вся дорога была исхожена медвежьими, лосиными, волчьими следами. И встретить их мы не робели - здесь, в этих условиях все на равных. На закате, чуть живые, изрядно подъеденные комарами, которые единственные соблюдали законы лесного гостеприимства, провожая нас весь путь, мы доползли до реки - Курусы. Мы дошли до последней реки, о которой нам упоминал Миша.
У реки дорога попросту исчезала, колеи переходили в траву, словно проезжавшие здесь вездеходы отправлялись с этого самого места на небо. Это нас несколько озадачило - появились сомнения, правильно ли мы идём, на ту ли просеку свернули, не придётся ли весь этот ужасный путь проходить обратно? Однако уже смеркалось и ночевать в любом случае нужно было здесь, а завтра уже решать, как быть дальше.
Справа Аленка увидела избушку, точнее маленький срубик в котором обычно ночуют таежники в зимнюю пору, - но это было уже настоящее жилье! Разумеется, пустующее. В нем мы поселили наши рюкзаки, а сами искупавшись и обмыв израненые ноги, постиравшись и развесив на припасенной веревке свое барахлишко, поставили суп и затянули «Степь, да степь кругом». Стало так уютно и тепло, будто в этом месте и была наша цель.
Но до нее еще далеко. Назавтра мы сговорились обязательно дойти до монастыря. Позавтракав «черникерсом» - только собранной черникой, смешанной со сгущенкой, мы стали обозревать путь. Еще вчера мы не знали есть ли дальше дорога, впереди была река, а дальше лес без малейшего намека на колею. Но так не может быть. Потому переправившись по бревну на ту сторону и обшавив новую землю, мы уже ждали, что кто-то заорет: «Нашел!». Орал Макс. Пошли дальше, начинался самый тяжелый день пути. Одна мысль гнала нас как сумасшедших, без обеда, без разговоров, без впечатлений - дойти сегодня. Но с каждым шагом дорога становилась сложнее, меховая перина глубже и жиже. И однажды она кончилась, и перед нами открылось огромное, во все стороны многокилометровое болото. Кто-то сказал: «Вы уверены, что идем правильно?» Нет, на карте болото было - значит, нам вперед.Повторяя про себя правила болотного передвижения, вперемешку с тропарем свт. Николаю, мы запрыгали по кочкам. Именно запрыгали, потому что некоторые кочки были на расстоянии 1, 1,5, 2 метра друг от друга.
Вдруг кочки под Аленкой кончились, она повернулась узнать у ребят, что делают в подобных случаях, но сразу поняла, что им не до нее - кто истово крестился, кто тащил свой сапог, и пока она их разглядывала на щиколотку ушла под воду, хотя показалось, что это были секунды. Пропрыгав пару километров, на исходе этого же болота увидев торчащий пенек, по диаметру скорее шест, Алёнка уселась на него перевести дух, рядом на таком же шесте Макс выливал болотную тину из сапог. Опираясь на посох подошел Юра: «Провалился» - сказал он и перекрестился, «посох в Москву возьму, если дойду». Было очень кстати, что болотных пеньков оказалось ровно три, и все недалеко друг от друга. Сидя на них и перевели дух. Решено было на сухой земле первым делом помолиться и устроить привал. Кто-то сказал: «Еще пару таких болот и мы не дойдем». Переодели носки, выжали джинсы и опять упрямо пошли дальше, чтобы сегодня дойти. В этот день нам встретилось еще 4 болота, и мы не дошли...
Когда переходили последнее, стало темнеть, а в лесу вошли во тьму. Дороги уже не различить, везде мокро и в лес не войти - бурелом. Так прямо на дороге, на колее, где чуть повыше было, там и остановились. Костер долго не разгорался, несмотря на изрядную порцию спирта, стало холодно, зазнобило, мокрые в болотной вони ноги стали ныть. Кто-то спросил тихо: «Есть не хотите?» и вдруг вспомнилось, заурчало... А что у нас осталось? Супы, только ни воды, ни костра. И еще одна, последняя банка тушенки. Повернулись к завпиту-Юре, он, несколько подумав, молча достал НЗ. Баночка, - какой же маленькой она показалась! А тут двое уставших мужчин, да и девчонка - съест сейчас не меньше их. Пролетело в мозгу: «Как будут делить?" Каждый будет брать по ложке. А если кто-то возьмет больше? Нет, лучше разложить поровну по мискам. Вскрыли - так аппетитно запахло мяском. Сглотнули. Раскладывали и внимательно следили, чтобы поровну, вернее, чтобы не меньше. Оказалось на донышке, только размазали. Достали сопревший кусочек хлеба, тоже последний. Малюсенький, как на диете. Проглотили мгновенно, облизали потом. Что-то бурча, недовольные влезли в палатку. Стоп! Расположились то мы на колее, а если поедет кто, вездеход какой, да нас не заметит, а и заметит - не поверит. Выползли - соорудили из салфеток флажки, они засветились в темноте. Тьфу! Наваждение бесовское, какой вездеход, - он здесь, наверное только раз в год проезжает, уж нам точно не достанется, размечтались! Пошли в палатку, сердитые и замерзшие, носы хлюпали, ноги совсем сковало. Чуть стало светать, вскочили на зарядку, чтобы согреться и сразу пошли. Но не далеко. Ноги болели и совсем не слушались. Рюкзаки казались тяжелее и вдавливали в эту жижу, собираясь превратиться со временем в могильную плиту. Поесть бы - но что? Грело воспоминание о вчерашней банке, остались лишь супы, да лекарства. Через пару километров смотрим - Макс пилит ампулу, подползаю - глюкоза. Он спрашивает: «Хочешь подкрепиться?» подумав об уколе сразу пропадает любопытство и желание поесть. Он смеется и выпивает глюкозу через шприц. Я тоже прошу. Сидим с закрытыми глазами и смакуем сладость. Опять дорога, болото... все слилось, уже не чувствуешь себя, не думаешь ни о чем, ничего не замечаешь вокруг, да ничего и не происходит, просто идешь - надо идти. Вдруг протираю глаза - делянка и аккуратно сложенные в поленицу дрова, пахнет свежим деревом. Люди близко - бегу со всех ног, уже не тяжело. Опять болото, уже совсем жидкое. Тычу в него посохом и оно хлюпает, чавкает как голодное. Ну это бывает, усмехаюсь и глажу себя по животу. Вспомнила, что со вчерашнего дня не пили, сразу пересохло горло. И очень кстати увидела ручей, правда, спешивший через болото, но даже если бы мне сказали, что превращусь в козленочка, я бы не послушалась. Вода была вполне сносной. Потом нам сказали, что недавно приезжал в эти места какой-то болотный специалист из Европы, докладывал: вода здесь такая чистая, что можно пить даже из болота. Только свернули, слышим шорох - поднимаю глаза - листья шумят, ласкаются друг к дружке, настоящие зеленые листья. Даже комары остановились.
Макс бежит с букетом - Иван-чай, пижма, ромашки, пахнет уже не кащеевым царством, не сыростью, а солнышком, что цветочки сохранили, а еще свежо стало, будто вода близко. Но нам не просто вода нужна, а озеро наше - Кожеозеро. Пару поворотов бежим вприпрыжку, - и вот оно. Огромное наше озеро - 27 км. А далеко-далеко на горизонте облака в нем плывут, и не понятно уже где озеро, а где небо. Солнце плескается и брызжет на нас. Мы грязные такие, уставшие - нам стыдно и в рассыпную бежим переодеваться. Одеваю давно забытую юбку, как у настоящей паломницы, и платочек, все свежее и ботинки даже чистые. Бегу к ребятам - и они принарядились, причесались, разглядываем и радуемся друг дружке. Выходим на дорогу, а до монастыря рукой подать. У ног собака вертится, визжит, как только хвост не отвалится, все норовит лизнуть в руку. Видно, нам здесь рады. Слышны разговоры. На костре стоит чайник, а вокруг несколько мужчин в рабочей одежде. Который батюшка? Они сами к нам подходят, мы кланяемся и сразу замечаем батюшку. Одет он как все, но совсем другой. Какой скромный - думаю я. Благословляет, спрашивает откуда идем и как добрались, знакомимся. Удивленно глядит на наши ботинки, мы смеемся, объясняем, что переоделись и он с нами улыбается. Говорит: "Таким путём к нам ещё никто не добирался". Оказались мы здесь первыми паломниками с момента возрождения монастыря.
Монастырь
Идем вначале в храм Тихвинской иконы Божием Матери. Там читаем молитвы и канон преподобному Никодиму, перед его иконкой, единственной писаной, другие бумажные. На душе как хорошо: и усталость и радость, что все правильно, что дошли, и как хорошо, что оказалось все как есть. Что такое озеро могучее, и монастырь и храмик спокойный такой, и батюшка замечательный. Потом ведет нас батюшка в дом, на кухню. По дороге показывает развалины настоятельского корпуса и храмов. Это осталось после гражданской войны, вначале в монастырь пришли красные и замучили часть братии, а потом их догнали белые и обстреляв монастырь увели остатки кожеозерских монахов с собой. От того монастыря остались одни руины, ну а батюшка живет в бывшем гостинничном корпусе и нам туда. Да, вот оно мужичье хозяйство - грязная посуда, и еще ничего не готовили. Мы закатываем рукава и кто ладит с посудой идет за водой, Юра уже скрепит ведрами, а кто понимает в кулинарии начинает чистить рыбу, ее сколько угодно. Думаем, что бы с ней сделать. Батюшка уходит на сено и просит в честь праздничка, т.е. нашего прибытия, приготовить рыбу под маринадом. Максим начинает готовить маринад, освободившийся от посуды Юра потрошит огромных налимов, нарезает солёных сигов, Алёнка чистит картошку для ухи. На монастырь уже спустился вечер, пока наконец мы приготовили ужин... Но здесь это никого не удивляет - и до нас вкушали пищу только раз в сутки. Стряпня наша удалась по-монастырски вкусной! Особенно Максов налим под маринадом. Батюшка нахваливает: «так хорошо - все три года, что здесь, не ел». После ужина нам показывают жилье: у ребят протопленная комната вместе с рабочими, в ней сушится рыба, и от этого запаха немного дуреешь. Кровати уже заняты - остались одни матрацы, но для нас и это подарок. Ночевать на твердой земле, в тепле и на матрасе. Здорово! И вдруг слышу, что кое-кого сюда не допустят, это же мужской монастырь, нельзя женщине ночевать в келье, плетусь в палатку, призывая силу воли! Потом, по ходатайству Юры, Аленку определили на сеновал, потому что с озера поднялся ветер, а палатка трепыхалась как парус и ей снились самые приключенческие сны. Рядом с сеновалом расположилась стройка - это трудники возводили избушку-келью для одного схимника. Приехал в прошлом году в монастырь старец из Троице-Сергиевой лавры, жил в стогу сена, все молился, да святых отцов читал, понравилось ему тут и попросил батюшку Михея возвести для него келейку, чтобы остаться. Так каждое утро просыпалась Аленка под стук топоров - работали плотники из знакомой Шомокши. Потом, помолившись с батюшкой в храме, мы шли на послушания: ребята готовить обед, или на сено, а Аленка собирала малинку - батюшке на зиму, Юра придумал - сказал, мол, он варенье малиновое у себя в деревне каждый год варит, сварит и здесь. Малина прям по горочкам на монастырском острове растет, и каждый день ее все больше, первый раз вышла с кружкой, потом с миской, с кастрюлей, а потом и с ведром. Сварили мы варенье, да потом сами за чаем да разговорами его и съели - едва литр остался батюшке на зиму подлечиться. А еще круглые сутки ели мы рыбу - и на первое, и на второе и еще... ведрами варили и солили еще.
На второй день говорит Аленка ребятам - попросите у батюшки баньку стопить. Приходят, говорят - разрешил. Она обрадывалась - уж очень мы грязные были после дороги, да и постираться хорошо бы. А они говорят - только баня для мужчин, а ты в озере купайся. И ведь как повезло. Ушла, чтоб с монастыря не было видно, смотрю - прямо пляж; песочек на берегу и в озере, долго идешь по песку - все мелко, намылилась и поплыла нырять поглубже - смываться, не так это легко, вода совсем мягкая. Поворачиваю обратно - из бани пар валит, хорошо, наверное, но у меня лучше: не жарко, но какой простор.
Иду обратно, и вдруг под ногами поляна земляничная. Вдыхаю эту сладость, срываю по ягодке и давлю на языке, думаю - куда мне это одной. Бегу к монастырю широко размахивая полотенцем и зову туда Юру, он охает и уплетает уже целыми горстями. «Давай, принесем отцу Михею» - и мы собираем сочные, душистые букетики, нагибаемся и видим: и тут, и там земляника. Пришли в трапезную, думаем, поставим на столе в самой красивой чашке, но кто-то сказал: «Съедят», тогда куда же? В красный угол! Залезли, и под иконками в лампадном свете засверкала земляника, так хочется, но ждем батюшку и с замиранием сердца дарим ему букет. Он радуется и предлагает нам, говорит, что земляника растет в особенном месте, на Никодимовой поляне. Как это? Дело в том, что монастырские святые оставили какие-то воспоминания о себе даже в природе.
Святые и история
Преподобный Никодим Хозьюгский, Кожеозерский самый среди них известный. Когда св. Никодим был еще Никитой один юродивый назвал его хузьюгским подвижником, удивился он тогда, ведь и места такого никогда не слышал, и учился на кузнеца, но со временем так захотелось ему быть в монастыре, что живя в Москве, он продал все до последнего и пришел в столичный Чудов монастырь. Архимандрит Пафнутий постриг его и так с ним подружился, что просил не расставаться и когда его призвали быть крутицким митрополитом. Но Никодим давно жаждал жития безмолвного, пустынного, потому благославя друга иконой отпустил его святитель. Тот пришел на Кожеозеро, поместил иконку свою в храме над жертвенником, а сам пошел в пустыньку на той самой реке Хузь-Юге, где среди болот поставил себе хижину. Там и жил он 35 лет до глубокой старости, никуда и не выходил, только молился со слезами, не спал, а только дремал сидя. Особенно навещали его олени, слушали они его молитвы, а потом подходили под благословение, ну и люди, конечно, тоже заходили, кто из братии за рыбкой придет, любил подвижник рыбку ловить, а кто и со своими бедами, был Никодим прозорливцем.
Иван-чай растет по острову в честь преподобного Серапиона. Он тоже не знал, что окажется добровольно на одиноком острове, да еще в монашеском звании. Преподобный Серапион в молодости вообще не был православным, он был татарином, причем знатным, и исповедывал мусульманство. Когда воины русские взяли Казань, его, тогда еще Турсаса Ксангаровича, привели в Москву как пленника. Он стал жить в доме боярина Плещеева, потому что жена его приходилась Турсасу родственницей. Там он узнал о Христе и крестился. И так дорог стал ему Христос, что пошел он за ним в суровый северный край. Он дошел до Кожеозера и на острове встретил монаха Нифонта, первого благословившего своими подвигами эти места. Преподобный Нифонт согласился разделить с ним свое безмолвие и принял его в ученики. Это было совершеннейшее отшельничество и постничество, только птицы навещали их, а ели они лишь коренья и ягоды все 18 лет. Но со временем нашлись ревнители и такого сурового жития. Один за одним собрались ученики. Тогда преподобный Серапион пошел в Москву просить землю под обитель. Вернувшись, старец с братией стали расчищать место под храмы: в честь святителя Николая и Святого Богоявления. Потому и монастырь - Богоявленский. За два года до смерти поставил Серапион себе преемника - преподобного Авраамия. И теперь на местах упокоения основателей всегда живые цветы, посаженые самой природой.
Семь святых учеников воспитал Церкви преподобный Серапион. Иные, как прп. Корнилий и прп. Леонид, основывали свои монастыри, иные, как прп. Авраамий и прп. Лонгин, были избраны игуменами в уже основанных, славных обителях, иные, как прп. Никодим, уходили на отшельничество, прочие же, как прп. Герман и прп. Боголеп, в простых монашеских трудах спасались.
Третим же игуменом после прп. Серапиона стал будущий Всероссийский патриарх Никон. При нём духовный расцвет монастыря соединился с материальным. Число братии достигло 100 человек. Лопский остров был соединён с берегом. Монастырь украсился новыми постройками, стал получать многочисленные богатые вклады. По делам обители отправился как-то игумен Никон в Москву, на поклон к молодому царю Алексею Михайловичу, да там и остался - такова была царская воля, сильно уж понравился государю северный игумен.
Но и вступив на патриарший трон, не забывал Никон о невольно оставленной им родной обители - в его время и его трудами был причтен к лику святых Никодим Кожеозерский, великий чудотворец, и поныне особо чтимый в Архангельском крае; а службу преподобному отшельнику писали по просьбе патриарха два пришельца из земли Сербской: авва Феодосий да Макарий, митрополит Гревский.
Шло время, менялись люди... Новые цари всё меньше благоволили русским монастырям, монашество приходило в упадок. Не избежала этого и далёкая Кожеозерская обитель. Сказывались также внутренние неустройства, стихийные бедствия... В 1758 году обитель приписали к Спасо-Преображенскому монастырю, а по учереждении штатов в 1764 вовсе упразднили в простой приход, да и тот потом приписали к прилуцкому приходу. Двое злоумышленников ограбили заброшенную обитель, и, заметая следы, сожгли её дотла. Более восьмидесяти лет стоял пустым монастырь. Казалось, никогда не оживёт это пеплище - но нет, в 1851 году пришли сюда два брата-монаха - Митрофан и Пармений, с них и началось первое возрождение обители.
Продолжилось оно трудами праведного старца архимандрита Питирима, прибывшго сюда с Соловков. Отец Питирим начал обширную строительную деятельность, осуществил проведение дороги. Помощью Божией и небесными молитвами отца-основателя, новый монастырь ярко преобразился, став прекрасней прежнего - для постройки новых чудесных храмов и зданий приглашались из Москвы самые известные архитекторы. Но не только внешнее благолепие возрождал о. Питирим - высота духовной жизни кожеозерского архимандрита была такова, что соловецкий старец иеросхимонах Зосима поведал раз ближним своим, что сподобился лицезреть отшествие души о. Питирима, со ангельским пением несомой в горние обители. Впоследствии рассказ сей подтвердился письмом о кончине о. Питирима, которое подтвердило с внешней стороны видение старца Зосимы...
Но недолго пребывал в покое раскинувшийся по острову белокаменный монастырь. Заплыхало над страной октябрьское пламя и скоро опалило Кожеозерскую обитель - мученический венец принял от рук красноармейцев из соседнего села Кривой Пояс последний настоятель - отец Арсений, с частию братии и трудников: были убиты иеродиакон Пантелеимон, иеродиакон Иоанникий, послушник Михаил (Черепанов), Иван Анцыферов, Марфа Зайцева. Недолго после сего настигла убийц кара - с берега подошли части белых вместе с англичанами, орудийными залпами выбили коммунистов из монастыря и ушли, взяв оставшихся в живых братьев с собой. Ещё в 1980-х годах, говорят, видна была общая могила большевиков-святотатцев, ныне же она исчезла без следа, по слову псалмопевца: и погибе память его. А вот пробоины от снарядов в стенах храмов и корпусов видны по сию пору.
Ещё на восемьдесят лет умолкли в монастыре молитвы. На территории упразднённой обители возникла комунна. Потом - посёлок ссыльных. Но и его в 1954 году расформировали в порядке «ликвидации неперспективных деревень». А средь ветшающих монастырских построек поставили лесничий кордон.
Но в 1998 появились здесь трое пришельцев из Оптиной пустыни - два монаха и послушник один. Решили подвизаться... Но никто из них не знал, какие тяготы им предстоят. Маленькая прокуренная комнатка на втором этаже бывшего гостиничного корпуса, смежная с комнатой, где размещались лесники - вот и весь монастырь. Разруха. Голод. На лесничем кордоне постоянные пьянки и дебоши. Первый брат ушёл через два дня. Второй продержался полгода. А послушник остался.
Не верится даже, что столько было сделано трудами лишь одного человека, ныне уже не послушника, а отца настоятеля - иеромонаха Михея. Под ругань и угрозы вечнопьяных лесников, да приезжающих к ним в гости на рыбалку их дружков - бывших зэков, происходило руками этого удивительного человека второе восстановление Кожеозерского монастыря. В 2000 году Священный Синод официально благословил открытие монастыря. Районные власти принуждены были отписать монастырю бывшие владения. Появилось хозяйство - огород, две лошади.
Отремонтирован бывший гостиничный корпус для паломников. Лесничий кордон перенесён с территории монастыря на соседнее озеро.
Воссоздан один из трёх храмов - надвратный, в честь Тихвинской иконы Божией Матери. Но самое главное среди всего этого, конечно - возрождение молитвенного делания. Так, мало-помалу, начав с молебнов на руинах, затем перешли и к служению самой Божественной Литургии...
Литургия
Кожеозерская Литургия! Ждать её мы начали еще до того, как дошли до монастыря. Максим всю дорогу подгонял себя и других, быстрей, быстрей, - а ну как опоздаем, не успеем на службу, не сподобимся святого Таинства?
Не опоздали. Более того: случилось она не сразу. Надо было потрудиться, пообжиться в монастыре.
Начинался август - самый праздничный месяц церковного года, радостный, сытый, украшенный природой.
Готовилась наша служба долго. Батюшка полдня и полночи пёк на печи просфоры. Максим заведовал на кухне. Юра и Алёнка убирались в храме. Благословение убрать храм перед службой воспринималось как великая милость. Просто чудо, как от движений твоих рук, освобождаемые из-под многомесячного слоя пыли, начинают вдруг сверкать подсвечники, под решительные скребки веником обновляется пол - словно прообраз надежды, что и твоя душа также под воздействием спасительных богослужебных слов и таинств преобразится, засверкает... Фанерный иконостас с десятком иконок разного размера. У южных алтарных врат единственная писанная - преподобного Никодима. Резные, ручной работы аналои. По бокам, в узеньких оконцах, удивительно ярко сверкает зеленью монастырский луг, за ним темнеет лес, а ещё дальше - синева вод под бело-голубыми переливами северного неба.
1 августа, в день преподобного Серафима мы служили вечерню. Батюшка был священником, Юра алтарником, Максим певчим, а Аленка прихожанкой. Всё молитвы произносились и слышались словно с каким-то особенным трепетом... Угли для кадила брались прямо из печки, стоявшей тут же, в храме. Юра постоянно дул на них, чтобы они не погасли, и кадило светилось в полумраке храма таинственным аленьким цветком...
На второй день, в честь пророка Илии мы ждали утреню и литургию. Расписания служб в монастыре, конечно, как в Москве на воротах не висит. Вечерняя служба начинается когда переделаны все дела, а утренняя - когда открываются глаза.
Наконец сама служба! Встали ещё затемно. Утренние молитвы. Правило ко причащению. Исповедь. В углу хлюпает Аленка. Ребята очень серьезные. Утреня. Батюшка благословляет Юру пойти наверх, на колокольную башенку, звонить под «Честнейшую», нотки разносятся по лугу, отражаются в озерных барашках. Чуть смущаясь, Максим перелистывает Минеи и регентует сам себе, сейчас он регент и канонарх древнего монастыря, - само величие, но очень трудно любителю-басу, привыкшему к обиходу, подстроиться под профессиональный тенор и знаменное пение отца-настоятеля. Ах, как чудесно поет батюшка, и не то это слово - профессионально; техника, умение совсем другое, - «профессионально» ли поют серафимы на Небесах, соловьи в распускающихся рощах, цикады под брильянтами звезд? Просто это дал Господь и оттого это так прекрасно.
Почитаны благодарственные молитвы. Последний отпуст, целуем крест, - он нагрелся то ли от теплоты молитв, то ли от батюшкиных рук. Батюшка выносит кусочки антидора из алтаря и каждому по просфорке, которые ночью пекли. Одну делим на троих, а остальные отвезем домой. Выходим в мир после 6-тичасовой службы. Преярко светит солнце, треплет горячими ладошками. Озеро кропит своими брызгами и радуется как шумная Жучка, встречающая нас у храма. Мы идём тихо, такие счастливые, бросаемся на сеновал и делимся впечатлениями.
«Перед этим меркнут все трудности пути», - серьезно говорит Юра, а мы улыбаемся и хлопаем его по плечу.
Источник: http://tytynka.livejournal.com/706.html#cutid1
Места:
Кожеозерский монастырь




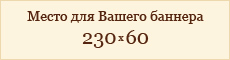
Комментарии
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для того, чтобы добавить комментарии